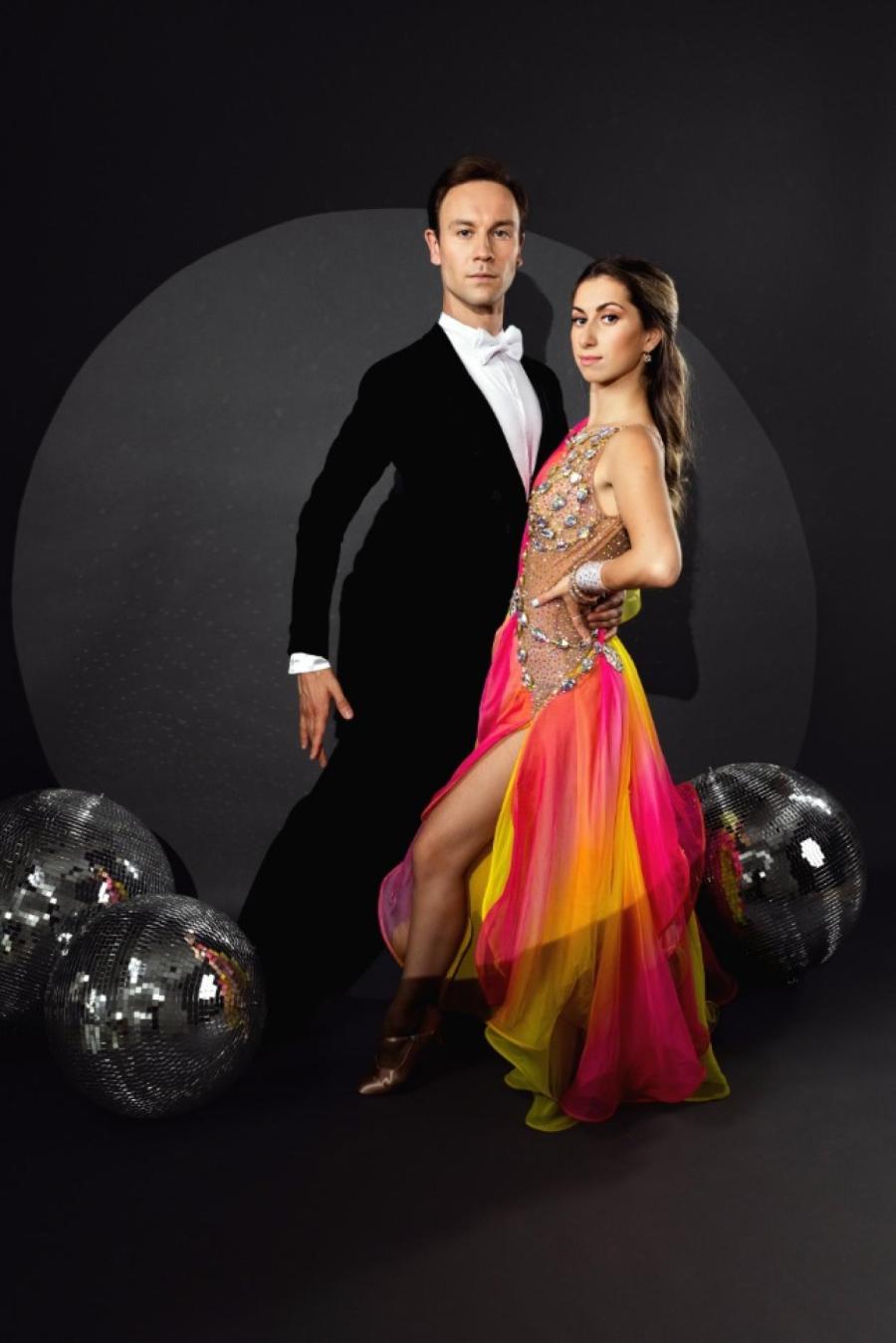2019-5-10 19:36 |
После снятия в 1944 году блокады Ленинграда, из эвакуации начали возвращаться жители города. А в Кронштадт, где размещались корабли Балтийского флота, приехали семьи военных моряков.
В апреле сюда перебралась семья командира подводной лодки Л-3 Владимира Константиновича Коновалова: жена и двое мальчишек - Марк и Евгений.
На улицах Кронштадта
Война на море развивалась по своему сценарию. В первые ее дни советские военно-морские базы были эвакуированы из Прибалтики, и весь огромный Балтийский флот сконцентрировался в Кронштадте и Ленинграде. Немцы считали, что намертво заперли его в осажденном городе.
Но подводные лодки по сути первыми прорвали ленинградскую блокаду. С 1941 года они в своих боевых походах действовали в Балтике, наводя ужас на флот противника, парализуя движение транспортов, перевозивших шведскую руду на военные заводы Третьего Рейха и захваченной им Европы.
Это серьезно беспокоило фашистское командование. Не считаясь с колоссальными затратами, гитлеровцы пошли на беспрецедентные меры. Финский залив был напичкан минами - их за относительно короткий срок установили десятки тысяч.
Но когда и это не помогло, немцы и их союзники финны перерезали выход в Балтику заграждениями из стальных сеток, которые днем и ночью охраняли боевые противолодочные корабли и авиация. Преодолеть такую преграду наши лодки не могли. Чтобы избежать напрасных потерь командование флота приняло решение на время остановить боевые походы в открытое море. Практически весь 1943-й и большую часть 1944 года подводники томились в ожидании «чистой воды».
Морской город жил по своим правилам. Тут редко встречались люди в армейских шинелях. Улицы заполняли краснофлотцы в черных бушлатах и бескозырках. Они уже прошли тяжелые испытания войны: обороняли Лиепаю, участвовали в тяжелейшем Таллинском переходе, эвакуировали базу из финского Ханко, в боевых походах достигали берегов Германии. На их груди сверкали ордена или медали. Но герои-моряки, по большому счету, оставались мальчишками. Они не прочь были попижонить.
Признак настоящего моряка - брюки-клеш. Особым шиком среди моряков считалось увеличить их ширину. Со стороны это выглядело достаточно смешно: идет группа краснофлотцев и буквально подметает мостовые своими «клешами». . .
На боевых кораблях на причуды матросов смотрели сквозь пальцы. Но не таков был комендант кронштадтского гарнизона капитан первого ранга Аркадий Варфоломеевич Кацадзе. Он ездил по городу на своем «Виллисе» и, если замечал матроса, чьи брюки были шире уставного, тут же выпрыгивал из машины. Он устраивал целое представление. Громогласный голос коменданта раздавался на сотни метров. А его адъютант лезвием выпарывал клинья. Остолбеневшему матросу выдавали иголку с белой ниткой и приказывали под смех зевак зашить брюки - тут же посреди улицы. Хочешь, снимай штаны, хочешь - ужом изворачивайся.
Завидев его «Виллис» Кацадзе, матросы, побросав своих подружек, разбегались врассыпную. Марк не раз наблюдал эти сцены. «Вот так герои! - думал он про себя, - неужели так они всю войну и провели?»
Вскоре ему представился случай, убедиться в обратном.
В роли салаг
В разгар лета случилось беда - заболела мама Марка и Евгения. Её положили в госпиталь. Куда девать мальчишек? И командование бригады пошло на беспрецедентный шаг - командиру Коновалову разрешили взять сыновей на подводную лодку.
- Отец никогда не рассказывал о своей службе и боевых делах, - вспоминает через семь десятилетий Марк Владимирович. - Зато за месяц на лодке от моряков мы узнали все о героическом пути Л-3.
На лодке сыновей командира встретили радушно. Появление мальчишек для моряков стало своего рода отдушиной. Марк и Женя напоминали каждому о доме, семье, собственных детях или братьях.
Младший Евгений поселился в командирской каюте с отцом. А Марка поместили в гидроакустической рубке под опекой матроса Петра Мирошниченко.
Перед сном Петр рассказывал мальчику истории. Например, о французском матросе, которого бросили в темницу замка Иф на острове. Двадцать лет матрос готовил себе побег. В итоге вырвался на свободу и отомстил своим врагам. Повзрослев, Марк понял, что это был вольный пересказ знаменитого романа «Граф Монте-Кристо». Но тогда в замкнутом пространстве, без дневного света с загадочными звуками вокруг эти рассказы стали частью его новых впечатлений и открытий.
На подводной лодке свои порядки и законы. Новички должны ко многому привыкнуть. Прежде всего, к бережному отношению к воде. В боевом походе, а они длятся подчас больше месяца, пресная вода - на вес золота. На приготовление пищи, мытьё камбузной и столовой посуды ежедневно тратится не более 5 литров на человека. На личный помыв - каждому члену экипажа положено 3-5 литров опресненной воды.
На подлодке даже гальюном нужно пользоваться правильно. Он действует при помощи сложной системы рычагов и клапанов. А поскольку гальюн напрямую связан с морем за бортом, авария в туалете может привести к гибели лодки. В истории, кстати, известны такие факты.
Во время Второй Мировой войны у берегов Шотландии пиратствовала фашистская подводная лодка U-1206.
Однажды она подстерегала британский конвой. В ожидании атаки командир лодки решил сходить в гальюн. Смыв унитаза почему-то не сработал. И командир принялся энергично вертеть и крутить клапаны. В итоге - туалет прорвало. Нечистоты вынесло не за борт, они вместе с забортовой водой начали заполнять субмарину. Пришлось всплывать. Лодку тут же обнаружили и потопили британцы.
Говорят, вылавливали немецких горе-подводников с особым презрением. Мало того, что враги, да еще с ног до головы в дерьме. . .
Как над любым новичком над Марком подшучивали. В подводном флоте есть несколько «проверенных» розыгрышей. Например, боцман с серьезным видом велит сбегать на клотик за кипятком. Салага носится между матросов, спрашивая: «Где тут клотик?» А в ответ - только смех. В конце концов, кто-то из сердобольных объяснит, что клотик - набалдашник на верхушке мачты, понятно, никакого бака с кипятком там нет.
Еще салаге могут поручить поточить лапы якоря. Или - отправить за дровами для корабельного камбуза. На самом деле, на кухне подлодок стоят электрические плиты.
Впрочем, «матросские университеты» весьма полезны. Не хочешь быть в дураках - осваивай родную лодку и другие премудрости службы.
Какой розыгрыш больше всего запомнился девятилетнему Марку?
- Однажды я крутился у пулемета на рубке и направил его на здание штаба флота. Тут же появился вахтенный офицер и с серьёзным видом сказал, что сейчас за мной придут на катере и арестуют. Я ужасно перепугался и весь день прятался в самом глубоком трюме. Потом все же выяснилось, что это была шутка. Но урок я получил на всю жизнь: на своих оружие наставлять нельзя, - говорит Марк Владимирович.
Из домашнего альбома
Рассматриваем фотографии из домашнего альбома Марка Владимировича. И не покидает удивительное чувство. Многие знаменитые и даже легендарные кадры Великой Отечественной войны хранятся здесь, как память о лично пережитом.
Вот - матрос рисует на рубке подлодки цифру «7». Так было принято отмечать боевые победы моряков. Число - количество потопленных кораблей. Этот снимок напечатан во многих книгах, учебниках, музеях.
Фотография сделана на подводной лодке Л-3. Рисует матрос Борис Дядькин, который после войны, кстати, стал художником. В кадре осень 1942 года, когда экипаж только открыл счет своих побед. Всего за годы войны Л-3 потопила 28 кораблей и считается одной из самых успешных подводных лодок всей Второй Мировой войны.
Война застала подводную лодку в Либаве, ныне Лиепае. В первый же день она ушла в боевой поход на установку минных заграждений. А семьи подводников срочно эвакуировали из города, вокруг которого смыкалось вражеское кольцо. Марку Владимировичу запомнилось, что вагонов не хватало и их грузили в составы, в которых перевозили то ли скот, то ли лошадей. Жены офицеров, закатав рукава, все быстро вычистили.
Путь в эвакуацию был долгий и трудный. На одной из станций мама отстала, потом на перекладных догоняла своих мальчишек. В эвакуации Марк серьезно заболел и почти год после этого не мог ходить. Но судьба хранила семью, как и хранила самого подводника.
Легендарная Л-3
Л-3 считали на флоте счастливой. В этом есть доля правды. Перед войной в составе Балйтиского флота было пятьдесят подводных лодок, до победы дошли только десять. Но счастье не в том, что судьба берегла ее от серьезных испытаний. Испытаний было хоть отбавляй. Но команда, благодаря своей сплоченности успешно преодолевала трудности.
В первые дни войны во время бомбёжки вышли из строя рули. Лодка потеряла всякую способность к маневрированию. Вообще, такие поломки нужно ликвидировать в доках на судостроительных заводах. Но выбора не было. Пока стояла ночь нужно было исправить все, иначе лодка бы погиба.
Устранять неполадки в рулевой отсек спустились командир БЧ-5 Михаил Крастелев, главный старшина Александр Мочалин и старший матрос Николай Миронов. Они прекрасно осознавали, что появись самолет или немецкий корабль, лодка должна будет погрузиться, а они в узком внешнем отсеке обречены. К счастью, неисправность устранили. И когда, казалось, неприятности позади, один из матросов уронил в отсек лом, и рули вновь заклинило.
Кто на этот раз спасет корабль? Вызвался старпом Владимир Коновалов. По статусу он второй после командира. Но тогда было не до субординаций. Просто по своей комплекции он больше других подходил для этой работы. На лодке тогда шутили, что он такой худой, что может спрятаться за карандаш.
Коновалов нащупал и обхватил лом, но застрял. Светало, надо было уходить. Двое краснофлотцев рывком, выдернули старпома, окровавленного, с ободранной кожей лица и рук. Подлодка была спасена. Коновалов еще долго ходил весь в «зеленке», но вахту нёс исправно.
Легендой стал поход Л-3, состоявшийся в августе 1942 года. Тогда подлодка отправилась на боевую позицию к берегам Германии. Шли мимо берегов шведского острова Готланд, и лодку засекли с рыбачьей шлюпки. И рыбаки «нейтральной страны» немедленно доложили о ней немцам. За лодкой началась охота. На ее поиски выслали миноносец. Л-3 легла на грунт.
Это очень тяжелое испытание притаиться на глубине, и ждать что будет. Старались не запускать издающую шум помпу, ходили в тапочках, даже воду не кипятили по отсекам. . .
Немцы отстали, посчитав, что у шведов слишком разыгралось воображение. А подводная лодка, освободившись от преследования, вышла на просторы Померанской бухты - к берегам тогдашнего Рейха.
Но подводникам снова и снова приходилось проявлять терпение. Почти трое суток ушло на разведку путей и узлов сообщения. Грищенко только и повторял: «Вот сюда нужно прийти поохотиться».
Завершив выполнение задания и покидая бухту, лодка поставила минные заграждения. Достоверно известно, что на них подорвались два немецких транспорта и шхуна «Фледервеен».
В открытом море команда начала охоту за вражескими кораблями. Опытные подводники атаки производят из надводного положения. В этом нет бравады, просто так больше шанса поразить цель. Л-3 потопила торпедами четыре судна.
Этому походу Л-3 поэтесса Ольга Берггольц посвятила свою «Песню о подводной лодке». В ней есть и такие строки:
Нас мало, мы горсточка русских людей
В подводной скорлупке железной. . .
И очень красноречивый вывод итог:
Но что же - что берег любимый далек?
Мы сами повсюду - Россия.
Подводники, как и все моряки, суеверны. Не любят число «13». Например, в понедельник 13-го не принято уходить в боевой поход или отправляться в плавание.
Но все 13-е числа не запретишь. . . 13 ноября 1942 года Л-3 напала в Балтике на след большого вражеского каравана. Видимость на море в тот день была ужасной. Л-3 пробралась в середину каравана под водой, но шумы кораблей не давали возможности точно определить цель. Решили подняться на перископную глубину. И в этом момент попали под таранный удар одного из транспортов.
Лодка чудом избежала гибели. От удара наклонилось ограждение рубки, перископ согнулся на 90 градусов, антенны сорваны.
Но самое страшное - экипаж оказался заблокирован. Заклиненный люк с огромным трудом открыл старший матрос Юрий Обрывченко. Несмотря на укоренившееся мнение, что на подводном флоте служат только люди невысокого роста, Обрывченко был богатырем под два метра, от усилий у него сместились шейные позвонки, и последствия этой травмы преследовали его всю жизнь.
Подлодка возвращалась на базу практически вслепую, лавируя между минами, мелями и кораблями. Когда командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Трибуц спросил подводников, как удалось дойти, они замялись: «Ну, знаете, лодка любит глубину. . . »
Слова запомнились адмиралу. Затем он отмечал наиболее выдающихся подводников фразой: «У них есть чувство глубины».
Грищенко командовал лодкой до весны 1943 года, после чего ушел на повышение, а его место занял его старший помощник Владимир Коновалов.
Любопытный факт. Перед тем как покинуть корабль, Грищенко позвал Коновалова в свою каюту и отдал ему. . . библию. Оказалось, она хранилась у командира во всех походах. И никто, включая первого помощника никто о ней не знал. «Ты ее храни!», - сказал Грищенко. И Коновалов, красный командир, убежденный коммунист, хранил. Хотя о ее существовании на лодке опять же никто не знал. Сегодня библия тоже - часть семейного архива Коноваловых.
Ожидание «чистой воды»
Полтора года ожидания в Кронштадте было трудное с моральной точки зрения время. Нужно было сохранить накопленные опыт и навыки. И командиру лодки Владимиру Константиновичу Коновалову это удалось. Марк на Л-3 наблюдал, как ежедневно несли службу матросы, оттачивая свои действия.
Мама выздоровела и вышла из госпиталя.
- Нам приказали покинуть лодку, - рассказывает Марк Владимирович. -Увы, сказочное время закончилось.
Мальчикам предстояло идти в школу. Расставались с экипажем, как добрые друзья. Старшина команды радиотелеграфистов Василий Титков, в прошлом учитель, вручил Марку свой портфель. Рулевой - сигнальщик Пётр Иванович Ищенко подарил «Сказки» Господарева, по сути, ставшими первой книгой в библиотеке мальчика.
Коноваловы дружили с семьёй Александра Маринеско. Часто ходили друг к другу в гости. Марк подружился с дочерью Маринеско Лорой.
Осенью 1944 года, наконец, случилось то, что подводники ждали полтора года. Финляндия вышла из войны и открыла для советских кораблей свои шхеры, свободные от мин и минных заграждений. По ним можно было выйти в Балтику и снова громить врага.
Марк Владимирович вспоминает, как они с братом и Лорой Маринеско стояли на пирсе и провожали уходящие в море Л-3 Коновалова и С-13 Маринеско.
Их отцы снова повели подводные лодки в боевые походы. Счет потопленным кораблям врага рос день ото дня. «Атаками века» называют уничтожение в 1945 году подлодкой С-13 корабля «Вильгельм Густлофф» и «Генерал Штойбен» и подлодкой Л-3 - военного транспорта «Гойя». Гибель этих кораблей - крупнейшие потери фашистской Германии за всю войну.
А когда Л-3 вернулась из похода, Марк получил от матросов подарок - альбом, в котором экипаж поздравил его с 10-летием. Выходит, между атаками подводники помнили о нем, ставшим вместе с братом самыми младшими членами экипажа. . .
24 июня 1945 года в параде Победы на Красной площади в Москве приняли участие пятеро матросов и старшин «Л-3»: Павел Гаврилович Еремеев, Василий Тимофеевич Карпов, Виктор Иванович Машинистов, Юрий Иванович Обрывченко и Александр Трофимович Харченко. Ограждение рубки прославленной подлодки корабля после войны было установлено в Лиепае, в 1990-е его перенесли в музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве.
Дружба с моряками Л-3 для Марка и его брата Евгения продолжалась всю жизнь. Вместе они создали музей подводной лодки Л-3 в школе № 201 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. Пока были живы члены экипажа, они регулярно бывали в гостях у школьников, участвовали в открытых уроках и праздниках. Теперь эту традицию продолжают их дети и внуки.
Анатолий АГРАФЕНИН,
писатель (Санкт-Петербург),
специально для газеты «СЕГОДНЯ».
Фото автора и из архива М. В. Коновалова.
.Подробнее читайте на vesti.lv ...